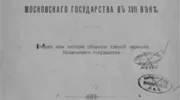БЕЛОЗЕРСКАЯ Н. А.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ПЕРВОЙ
“При Петре она светила не собственным светом,
но заимствованным от великого человека, которого
она была спутницей… вьющееся растение достигало
высоты, благодаря только великану лесов, около
которого обвивалось; великан сражен — и слабое
растение разостлалось по земле”.
(Соловьев, XVIII, 279).
В “ФИНЛЯНДСКОЙ Газете”, от 25-го апреля (8 мая) 1900 года, в № 49, появилась заметка о “сохранившейся в университетской библиотеке, в Упсале, родословной Екатерины I, супруги Петра Великого”. Эти документы Упсальской библиотеки, переведенные с шведского на русский язык и доставленные нам с правом напечатания (Н. Н. Асмусом), относятся к 1725 году, т. е. году восшествия на престол Екатерины I. В виду интереса, представляемого этими документами, мы считаем нелишним вернуться к старому и уже оставленному вопросу о происхождении первой русской императрицы.
Вопрос этот, как известно, возбудил немало всяких толков и догадок за границей и в самой России. Возведение в сан русской царицы неродовитой пленницы, самые условия ее плена служили поводом к ропоту в русском народе и к неблагоприятным слухам 1. Бессильны были против них все [57] запрещения, царские указы и розыски Тайной канцелярии и даже угрозы смертной казнью “злодеям, обличенным” в непристойных и противных словах… против персоны ее императорского величества и их величества высокой фамилии 2. Строгие, принимаемые меры только усиливали толки и еще более сгущали мрак, окружавший прошлое второй супруги Петра; но тайна была внезапно обнаружена, едва ли не в самый неудобный момент для Екатерины.
В мае 1721 года, после длинного ряда блестящих побед и по окончании трудной, долголетней Северной войны, Петр отправился в Ригу со своей супругой. Она являлась вместе с ним на всех выходах, церемониях, смотрах, празднествах и пирах, окруженная царским великолепием, представлявшим резкий контраст с простотой одежды и всей обстановки Петра. В этот момент наибольшего величия и счастья Екатерины Алексеевны, ко двору неожиданно явилась крепостная крестьянка Христина Сковорощанка, которая “показала”, что она сестра ее величества, и просила свидания. Неизвестно, какой прием встретила Христина у императрицы, но из писем рижского генерал-губернатора князя Репнина мы знаем только, что “та женка была у ее величества и паки отпущена в свой дом” с пожалованием двадцати червонных 3. Со следующего 1722 года начинаются поиски родственников императрицы в Лифляндии; но, по-видимому, Петр не имел намерения приблизить их ко двору и не желал огласки. Прежде всех отыскан в деревне Догабен Карл Сковороцкий, брат Христины, но взят “под крепкий караул” и в 1723 году отправлен в Москву к кабинет-секретарю Макарову, и велено было “иметь его под присмотром с детьми” 4. Только в 1725 году, при воцарении Екатерины I, французский посланник Кампредон в донесении своему двору от 16 октября сообщает, в виде новости, что “ходят темные слухи о прибытии в русскую столицу с семейством одного из братьев царицы”, и пишет между прочим: “Это, кажется, человек очень низкого происхождения и грубого нрава. Если то, что я слышал, справедливо, то надо думать, что люди, посоветовавшие царице призвать этих родственников в Петербург, не очень-то заботятся о прочности ее правительства” 5. [58]
Но ни это, ни даже последующие, более основательные поводы к неудовольствию не могли поколебать могущества женщины, игравшей такую первенствующую роль в жизни Петра Великого и заслужившей его глубокую привязанность. Обаяние гениальной личности преобразователя было еще всесильно в России; гроб, заключавший останки Петра, накрытый императорской мантией, долго стоял под балдахином, среди Петропавловской церкви, “на нарочно уготованном троне”, напоминая о нем свидетелям его славы и блестящих подвигов. Прошли годы, прежде чем его предали земле 6.
К тому же Екатерина, провозглашенная императрицей сподвижниками Петра I, не имела никакого основания бояться за прочность своего престола и в данном случае несомненно действовала по собственному усмотрению. Из донесений саксонского резидента Лефорта, конца 1725 года, видно, что Карл Самуилович Сковороцкий с детьми, в первое время по приезде в Петербург, жил инкогнито в доме Монса, а по другим известиям в Сарской мызе. Из его детей только старшая дочь Софья Карловна была тогда взята ко двору и возведена в звание фрейлины 7.
Вообще, со стороны первой императрицы не видно особенной осторожности в отношении ее родственников или боязни возбудить чье либо неудовольствие, судя по тому, что в начале следующего 1726 года она решилась вызвать из Лифляндии и другого [59] Сковороцкого, Федора (Фридриха), и двух сестер: Христину и Анну, с мужьями и детьми.
Но, так как это были люди “темные” из крепостного состояния, мало пригодные для придворной жизни, то, по приезде в Россию, они были прямо отправлены в Стрельну, уединенную и малонаселенную мызу, заброшенную после смерти Петра, с недостроенным дворцом 8. Тем не менее, преувеличенные слухи о щедрых подарках императрицы своим родственникам, пожалование им вотчин, переселение Карла Самуиловича с детьми в роскошный, устроенный для него дом (возле Мраморного дворца), возбудили зависть придворных. Беспокойство их еще более увеличилось, когда, по указу 5 января 1727 года, оба брата Сковороцкие с потомством были возведены в графское достоинство и переименованы и графы Скавронские 9; Меншиков и другие высшие сановники явились лично к Карлу Самуиловичу с поздравлениями.
__________________________
I.
В настоящее время, на расстоянии многих десятков лет, трудно сказать, почему Екатерина, вызвав в Петербург свою многочисленную лифляндскую родню и осыпая их открыто всякими щедротами, до конца жизни, нигде в своих указах и распоряжениях не упомянула, об этом родстве. Равным образом, в переписке кн. Репнина, с кабинет-секретарем Макаровым о Сковороцких нет ни одного намека на их родство с императрицей; они названы по именам и фамилии, или же встречаются такие выражения: сии люди, муж сей женщины, та женка, известная женская персона с мужем и детьми и пр. Только в своем духовном завещании Екатерина I, оставляя Скавронским принадлежавшие ей лично “маетности и земли”, для раздела между ними, называет их “ближними сродниками ее собственной фамилии”.
Тем не менее, факт родства государыни с крепостными лифляндскими крестьянами был достаточно известен в Петербурге и Москве и на первое время возбудил толки в публике, но мало-помалу потерял для нее всякое значение, уступив место более живым и насущным интересам. Если, по поводу низкого [60] происхождения императрицы Екатерины, и бывали случаи недовольства в народе, которое проявлялось в подметных письмах и распускаемых слухах, то против этого по прежнему принимались строгие правительственные меры.
Не так легко и просто мог быть решен вопрос о происхождении Екатерины I в ученом мире, в виду ее близости к Петру и его упорного стремления сделать ее соучастницей своей славы и подвигов. Женщина, имевшая такое значение в жизни Петра Великого, не могла остаться вне окружавшего его ореола, не только в России, но и за границей, где преобразовательная деятельность русского царя, громкие победы, борьба с Карлом XII, а также его своеобразная личность, привычки и чудачества обращали общее внимание. Историки и авторы мемуаров и дневников, писавшие о Петре после его смерти и об его второй супруги, более или менее подробно касались вопроса об ее происхождении; и таким образом, в данном направлении, создалась довольно значительная литература на русском и иностранных языках и особенно на немецком.
Однако, несмотря на это, происхождение и детство Екатерины I до сих пор представляют далеко не решенный вопрос. Все сообщенные по этому поводу известия отличаются неполнотой, крайне сбивчивы и противоречивы, что объясняется отсутствием, или, вернее, недостаточностью документов. Обнародование их при жизни Екатерины Алексеевны едва ли было для нее желательно, а тем более для Петра; и поэтому весьма возможным является предположение, высказанное бароном Брюйнингком и другими, что если были какие либо письменные документы, то они намеренно уничтожались. Разговоры на эту тему были запрещены и подвергались преследованию, что заставляло молчать и тех, которые могли бы сообщить верные сведения о происхождении Екатерины I. Иностранцы, жившие в России по несколько лет, как Плейер Перри, Бассевич, Берхгольц и др., в своих дневниках и мемуарах и донесениях также не находили нужным сообщать что либо по этому поводу при жизни Петра.
Первые письменные известия о происхождении Екатерины I относятся к году ее воцарения; но уже в это время, вследствие принятых мер, сообщаемые сведения лишены всякого фактического основания и носят характер догадок и предположений. Так, цесарский посланник Бусси Рабутин, в своем донесении из С.-Петербурга венскому двору от 28-го сентября 1725 года, сообщает, что “Екатерина, незаконнорожденная дочь лифляндского дворянина фон-Алфендаля и его крепостной служанки, родилась в 1683 году, а после смерти матери взята Глюком” и пр. 10. Равным образом в “Генеалогических таблицах” [61] Гюбнера, изд. 1725 года, сказано: “Катерина фон-Алфендель из Лифляндии родилась 24-го февраля 1684 года” (супруга Петра I) 11, Таким же фантастическим является известие, сообщенное в донесении того же 1725 года, ганноверского резидента Вебера, который долго жил в России и брал уроки у Вурма, учителя детей Глюка (взятого в плен в Мариенбурге вместе с Екатетериной), и мог, по-видимому, получить от него точные сведения об ее происхождении. По словам Вебера, Екатерина родилась в деревне Рингене, Дерптского округа, и была незаконной дочерью крепостной девушки и шведского подполковника Розена 12. Но Вебер, передавая это известие, сам находил его довольно сомнительным, судя по тому, что в своем обширном сочинении — “Das veraenderte Russland”, он нашел нужным сделать такую оговорку: “Сознаюсь, что относительно происхождения Екатерины я не знаю ничего основательного и заслуживающего доверия, потому что сообщаемые известия крайне противоречивы” 13.
Понятно, что если при жизни Екатерины не было возможности собрать точных сведений в данном направлении, то тем затруднительнее было собирать их лет пятьдесят спустя. Известный историк-географ Бюшинг, живший в Петербурге в начале царствования Екатерины II, “долго и напрасно наводил справки и потерял всякую надежду узнать что-либо верное” о родителях первой русской императрицы. В своих статьях он нигде не упоминает фамилии ее отца и называет его то Самуилом, то Карлом 14.
Другой иностранец, Альбедилль, секретарь шведского посольства при русском дворе, в 1778-1784 гг., заявляет, что “в Петербурге не только было бесполезно, но даже опасно наводить справки о происхождении Екатерины, хотя бы с научной целью” 15.
При этих условиях открыто было широкое поле для всевозможных вариаций на данную тему 16. Между прочим было [62] высказано предположение, что Екатерина родилась в Дерпте в 1686 году, и что ее родители — польские крестьяне, переселились в Мариенбург и умерли от чумы, после чего она была взята местным пастором, а затем Глюком 17. У Вольтера отец Марты (Катерины) — польский дворянин Скавронский, умерший во время польских войн, оставил после себя двух детей: дочь взята Глюком, а сын Карл каким-то крестьянином и впоследствии найден в корчме, где он исполнял должность слуги. Петр Великий, узнав об этом, велел привезти ко двору Карла Скавронского; Екатерина, при виде брата, упала в обморок и проч. Однако. Вольтер, передавая этот романический рассказ, списанный но его словам “с рукописи, посланной царю королем Августом”, добавляет, что не считает его безусловно верным 18.
Гупель, перечислив различные показания о происхождении Екатерины, со своей стороны сообщает сведения, собранные им в Лифляндии от лиц, знавших Скога и Олоссона (Skogh и Olosson), воспитанников пастора Глюка, живших у него вместе с Екатериной. Хотя лица эти, за давностью лет, не помнили в точности фамилии, но утверждали, что отца Екатерины “не звали Скавронским”, потому что Ског и Олоссон упоминали какую-то другую фамилию. По свидетельству этих двух воспитанников Глюка, Екатерина была сирота, оставшаяся в его доме после смерти родителей, и вела у него все хозяйство. Но. такт, как она отличалась чрезмерной экономией и отпускала порции, не соответствующие их молодому аппетиту, то у них из-за этого происходили ссоры, и Олоссон заявлять ей, что “он не женился бы на ней и в том случае, если бы она была единственная женщина в мире” 19. [63]
II.
В противоположность этой пестрой веренице всяких гадательных показаний, шведские источники отличаются однообразием, полной определенностью и ссылками на, подлинные свидетельства и документы. Разница, только в подробностях, а в главных чертах одни показания дополняются и подтверждаются другими.
Историк Карла, XII, шведский придворный проповедник Нордберг, взятый в плен под Полтавой в 1709 году и живший около шести лет в России, то в Петербурге, то в Москве, приводит свидетельство одного лифляндца, знавшего отца и мать Катерины, подтверждаемое церковного книгою: “Отец ее был шведский квартирмейстер Эльфсборгского полка Иоганн Рабе. Находясь с полком в Риге, он женился на местной уроженки Елизабете Мориц. По прибытии в Швецию со вторым мужем, Елизабета родила в 1082 году, на бастели Гермундерид, в приходе Тоарпа, дочь Катерину. Через два года Иоган Рабе умерь, а жена его с дочерью и новорожденным сыном вернулась в Ригу, где, некоторое время спустя, Катерина поступила в сиротский дом, затем на Ревельское подворье и наконец к мариенбургскому пробсту Глюку”… 20.
Другое известие о происхождении и первых годах жизни второй супруги Петра I заключается в донесении военного комиссара фон-Сета, напечатанном в шведской газете “Tiden” на 1849 г., в № 89. Известие это, в главных чертах вполне сходное с рассказом Нордберга, дополнено некоторыми новыми подробностями; кроме того, Свен Рейнгольдт Рабе назван другим именем и оказывается на два года старше сестры. Здесь сказано: шведский квартирмейстер Иоганн Рабе “привез с собою из Риги жену Елизавету Мориц, с которою прижил в замке Варберг, где находился в гарнизоне, сына. Свена-Рейнгарда и потом на бастели Германдеред дочь Елену-Катерину. Жена через месяц но смерти мужа с обоими детьми удалилась в Ригу: сыну было пять лет, а дочери три года”.
Третье известие представляет мало разницы от первых двух, хотя это не более, как предание, которое Нордберг слышал в России от лифляндцев. По их рассказу, “мать Катерины вышла в Швеции замуж за одного унтер-офицера и по смерти его уехала в Эстляндию; затем во время “великого” голода в 1697 году она удалилась в Лифляндию, где искала хлеба, у дворян и пасторов. Таким образом, пришла она к пробсту [64] Глюку, который недели две держал ее в своем доме, потом отпустил; Катерину оставил у себя” 21.
Другой шведский историк, Лагербринг, по вопросу о происхождении Екатерины I ограничивается краткой заметкой: “В России утверждают, что она происходит из польской фамилии Скавронских; в Швеции убеждены, что ее отец носил фамилию Раабе и был квартирмейстер Эльфсборгского полка. Слухи эти вполне известны в Петербурге” 22.
III.
Шведские историки почему-то не обратили на себя внимания исследователей; и при избытке всяких догадок и предположении вопрос о происхождении первой русской императрицы оставался в том же заколдованном круге не только при ее жизни, но и десятки лет спустя. Разногласие мнений и выводов перешло и в литературу более позднего времени, где оно выразилось еще рельефнее.
Новейшие иностранные исследователи не высказывают никаких новых догадок и, склоняясь в пользу того или другого мнения, не считают вполне достоверным ни одного из них.
Бюлау, тщательно изучивший литературу вопроса, приходит к выводу, что “до сих пор настоящее происхождение Екатерины не доказано в точности”, и считает несомненным только известие, подтверждаемое, всеми источниками, что Екатерина “была сирота, принятая в дом Глюком и воспитанная им в лютеранской вере”. Затем, упомянув о том, что в первое время после замужества ее звали die Rabin, он не отрицает близкого родства Екатерины с многочисленной семьей Скавронских, хотя не определяет степени этого родства. Кроме того, он обращает особенное внимание на тот факт. что ни в одном из более или менее заслуживающих доверия известий не сказано о братьях и сестрах Екатерины 23. В некоторых источниках упомянут только один брат (который в шведских источниках назван Свен-Рейнгольд, в остальных — Карл); или же Екатерина является единственной дочерью.
Валишевский в своем последнем сочинении замечает по поводу происхождения Екатерины I, что относительно этого нет [65] “никаких точных сведений. В истории и в легенде мариенбургская пленница носит разные фамилии, и место ее родины показано различно; более или менее заслуживающие доверия документы и предания противоречат одно другому… и нет ничего верного, а только вероятное”. При этом автор со своей стороны не высказывает никаких предположений, но считает возможным, что “Екатерина была родом из Польши, и что ее братья и сестры Сковороцкие (Скавронские), несомненно, простые крестьяне, быть может, переселились откуда-нибудь в Лифляндию” 24.
Совсем иное отношение к вопросу о происхождении Екатерины I встречаем мы в русской исторической литературе, а именно: отсутствие каких либо колебаний и сомнений. В противоположность большинству иностранных исследователей, русские историки и ученые считают этот вопрос бесповоротно решенным и на основании донесений Бестужева 1715 года 25 и доказанного родства Скавронских с Екатериной признают несомненным фактом, что она была дочь лифляндского обывателя (по другим — крестьянина), Самуила Скавронского.
К. Н. Арсеньев в своем исследовании: “Царствование Екатерины I”, пишет о ней: “дочь безвестного выходца литовского, Самуила Скавронского, рожденная в нищете, сирота бесприютная с младенчества, сохраненная в первые годы жизни сердоболием жителей Рингена, прочно потом устроилась в Мариенбурге в доме пастора Глюка”. (Ученые записки второго отд. академии наук, кн. II, вып. I, Спб., 1856, стр. 221).
Щебальский в статье: “Новое предположение о происхождении Екатерины I”, заявляет, что происхождение ее от Скавронских, как бы темны и сбивчивы ни были подробности, должно быть принято за достоверное” (Чтения в Моск. общ. ист. и древн., 1860, кн. II, стр. 77).
Устрялов пишет, что “очевидно Катерина была из семейства лифляндского обывателя Самуила Скавронского. Впоследствии Петр неоднократно напоминал ей в шутку, что она шведская подданная… следовательно, Катерина была из шведской области; оттого очень вероятно известие Вебера, что она родилась в городов Рингене, Дерптского округа” (История царствования Петра Великого, т. IV, ч. 1. Спб., 1863, стр. 139 — 140). [66]
У Соловьева мы встречаем такое известие: “при дворе сестры Петра, царевны Натальи Алексеевны, с 1703 или 1704 года, явилась молодая Екатерина, дочь лифляндского обывателя Самуила Скавронского, находившаяся, как говорят, в услужении у мариенбургского пастора Глюка и попавшаяся с ним вместе в плен к русским при взятии Мариенбурга” (История России, т. XVI, M., 1866, стр. 70).
Костомаров в своей обширной статье: “Екатерина Алексеевна, первая русская императрица”, говорит между прочим: “Из дел государственного архива узнаем только, что Екатерина была дочь крестьянина Скавронского” (“Древняя и новая Россия”, 1877 г., № 2, стр. 130).
По мнению академика Я. К. Грота, донесение Петра Бестужева к Екатерине от 25 июля 1715 года из Риги “весьма положительным образом утверждает, что она была дочь лифляндского обывателя Самуила Скавронского… и что, как бы то ни было, вопрос о происхождении Екатерины можно считать решенным” (статья “Происхождение Екатерины I” в Сборн. отд. русск. яз. и слов. ак. наук, т. XVIII, Спб., 1878, стр. 11).
Феттерлейн, в своей заметке: “По вопросу о происхождении императрицы Екатерины I”, подтверждает мнение академика Грота новыми данными и на основании их высказывает убеждение, что “не подлежит уже сомнению, что родители Екатерины носили фамилию Скавронских или сходную с нею” (“Вестник Европы”, сентябрь, 1896 г., стр. 386).
Затем из приведенных здесь историков и ученых один Устрялов считал необходимым, по поводу происхождения второй супруги Петра, коснуться подробно в числе других и шведских источников, не отвергая и не защищая их. Остальные или вовсе не упоминают о шведских источниках и как бы отказывают им в праве существования, или же презрительно относят к области легендарного вымысла, не придавая значения ни одному из них.
IV.
Таким образом, в русской исторической литературе не только самый факт, но даже предположение о полушведском происхождении Екатерины I по отцу признано чем-то невозможным и несовместимым с ее лифляндским происхождением по матери, которое подтверждается шведскими и всеми другими источниками. Между тем, существуешь немало положительных и довольно очевидных доказательств в пользу полушведского происхождения Екатерины, и далеко не все доводы и доказательства, [67] приводимые защитниками исключительно лифляндского происхождения, могут быть приняты безусловно и на веру.
Наиболее горячим и нетерпимым сторонником исключительно лнфляндского происхождения второй супруги Петра Великого является академик Я. К. Грот в своей статье “Происхождение Екатерины I” 26. Он не выслушивает своих противников, заранее бесповоротно опровергает), их доводы и возражения, и называет все шведские источники шведским преданием. По его словам, “не было бы, пожалуй, надобности говорить о нем, если бы это предание не держалось до сих пор в Швеции и не возобновлялось от времени до времени и тамошней литературе” (стр. 11-12).
Но, при этом, автор статьи “Происхождение Екатерины I” не обратил внимания, или не нашел нужным упомянуть о том, что так называемое им шведское предание было известно в Петербурге при жизни Екатерины I и с теми же подробностями, что в Швеции. Ганноверский резидент при русском дворе Вебер пишет по поводу появления в Петербурге родственников императрицы в 1727 году: “Прибытие этих чужих людей возбудило всякого рода разговоры; некоторые осмелились рассуждать о происхождении царицы и распространяли неприличные слухи, что ее отец — Иоганн Рабе, квартирмейстер Эльфсборгского полка, а мать — дочь рижского государственного секретаря, и что Иоган Рабе с женой записали в 1682 году рождение своей дочери Катерины в шведском приходе Вара, Эльфсборгского плена. После смерти Рабе, вдова его с ребенком отправилась в Ригу к своим родственникам и также умерла; после этого, пробст Глюк принял Катерину, как сироту, в сиротский дом” 27.
Вообще, Я. К. Грот не только не придает никакого значения шведскому преданию, но даже берет на себя объяснение, как могло образоваться такое предание. По его мнению, первым поводом к этому могла быть неизвестность участи, постигшей вдову Габе, по ее возвращении в Лифляндию с дочерью и возникшие по этому случаю догадки; а, с другой стороны толки о происхождении Екатерины Скавронской после ее возвышения. Затем, Я. К. Грот, возражая сторонникам полушведского происхождения Екатерины Г и доказывая несостоятельность их этимологических объяснений фамилии Рабе, высказывает в свою очередь следующую этимологическую догадку: так в объяснение факта, что Екатерину в первое время после ее замужества звали die Rabin 28, он признает возможным, что “это имя пошло в ход, [68] вследствие смешения его со словом раба, рабыня, которое могло прилагаться к Екатерине не только по ее предполагаемому происхождению из крепостного состояния, но и потому, что она была военнопленной, — пленные тогда признавались рабами” (стр. 17-18).
С таким же недоверием почтенный академик относится и ко всем другим доводам своих противников. Из них он особенно нападает на шведского учителя в городе Фелькенберге (юго-западной Швеции) Кастена Рабе за его попытку доказать шведское происхождение Екатерины I по отцу фактическими данными.
Сведения, собранные Кастеном Рабе, в общих чертах, вполне сходны с данными вышеприведенных шведских источников. Здесь также отцом Екатерины является шведский квартирмейстер Элфсборгского полка Иоанн (Иоган) Рабе; “жена его была Елизавета Мориц, прежде бывшая замужем за секретарем в Риге; она с ним не имела детей; но от второго мужа Рабе (Иоанна) родила сына Свена Рейнгольда и дочь Катерину. Иоанн Рабе умер в 1684 году в Гермундереде и похоронен в семейном склепе в церкви Тоарпа за алтарем; вслед затем вдова его, Елизавета, с двумя малолетними детьми уехала в Лифляндию. Впоследствии сын ее, Свен Рейнгольд Рабе, служил в шведской армии и был убит в Польше, а дочь стлалась супругой императора Петра” и пр.
В подтверждение сообщаемых им известий, Кастен Рабе привел подлинную, засвидетельствованную выписку из протокола судебной книги Осского округа, селения Вебю, за 15 сентября 1758 г., и приложил к ней родословную таблицу всей фамилии Рабе, добытую им у одного пастора.
Тем не менее, Я. К. Грот в данном случае не придает никакого значения и письменным документам: “Что это за документа? — спрашивает он относительно выписки из судебной книги Осского округа. — Сохранившаяся под этим заглавием бумага заключает в себе извлечение из описания рода Рабе, составленного самими лицами этой фамилии… Этот, так называемый, документ, писанный в 1758 году, то есть через тридцать слишком лет по смерти Екатерины I и составленный только по слухам, в сущности не есть даже документ и ничего важного не прибавляет к имеющимся до сих пор сведениям” (стр. 12-13). [69]
V.
Кроме выписки из судебной книги Осского округа, Кастен Рабе сообщает еще рассказы местных пасторов и стариков, знавших семейство Екатерины, и, между прочим, заявляет: 1) что “запросы о происхождении Екатерины из Вестготландии делались уже в 1725 году, то есть при восшествии супруги Петра Великого на престол; и 2) что между членами фамилии Рабе сохранилось предание о принадлежавшем им, но, к сожалению, утраченном письме сильной руки, которым требовались сведения о фамилии Рабе”.
Понятно, что предание само по себе, при утрате письма с запросами, а равно и ответов на них, не имело и не могло иметь научного значения для почтенного академика, безусловно отвергающего и более основательные доводы противников своего мнения; и он только мимоходом упоминает об этом в своей статье “Происхождение Екатерины I” (стр. 13 — 14).
Между тем, заявление шведского учителя Рабе о существовании письма 1725 года с запросами, касающимися происхождения Екатерины, вполне подтверждается недавно найденными документами Упсальской библиотеки. Документы эти, переведенные со шведского на русский язык Н. Н. Асмусом и доставленные нам с правом напечатания в настоящей статье, представляют не что иное, как ответы на сделанные кем-то в 1725 году запросы, в виде двух кратких записок, с приложением родословной.
Первая из этих записок носит официальный характер и разделена на четыре пункта, которые служат прямым ответом на точно поставленные вопросы, так что можно ясно видеть, какого рода справки требовались из Гермюннаведа, Осского уезда, в Вестготландии, а именно:
1) точное название местожительства фамилии Рабе;
2) происхождение и родословная Иоанна Рабе, о котором, по-видимому, желательны были наиболее подробные сведения;
3) наличный состав членов фамилии Рабе в 1725 году;
4) точное название Тоарпского прихода.
Записка, как видно из подписи, составлена местным пастором, Гельстадиусом, который почему-то нигде не упоминает имени Екатерины, а называет ее дочерью Иоанна Рабе или дочерью вдовы Рабе или даже девочкой, что едва ли можно объяснить простой случайностью.
Вторая записка написана неизвестным лицом в ответ на запросы, которые, по-видимому, сделаны были частным образом с целью узнать: известна ли на родине фамилии Рабе дальнейшая судьба дочери квартирмейстера Иоанна Рабе? [70]
Мы помещаем здесь оба документа Упсальской библиотеки в том виде, как они были получены нами:
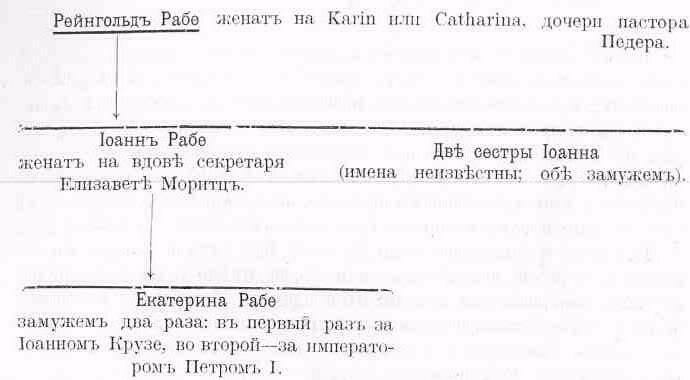
VI.
Письмо пастора Гельстадиуса, от 29-го июля 1725 г.
(Библ. Упс. унив. Cod. Е. 126. b.).
Перевод:
“Краткая записка в ответ на четыре вопросные пункта относительно семейства Рабе из Гермюннаведа, расположенного в Вестерготланде, Эльфсборгском лене, Осском уезде, Ронгндальской общине и Тоарпском приходе 29.
1. Гермюннавед исстари сохранял это свое имя неизменным в поземельных книгах и не назывался Гермюнделундом, но так его прозвать покойный Иоанн Рабе, в то время, когда он там проживал.
2. Что касается до фамилии Рабе, то имя Рейнгольда Рабе носил некий полковой квартирмейстер при пехотном полку Эльфсборгского лена; он был по происхождению немец и прибыл на житье в Гермюннавед, всегда, как и теперь, служивший бостелью полкового квартирмейстера. Означенный Рабе женился в Ронгндальскот пасторском имении 30 на дочери покойного главного пастора Педера. Карши или Екатерине 31, прижил с ней сына, Иоанна Рабе, и двух дочерей, из которых одна вышла впоследствии замуж в Боросе 32 за именитого купца Тера Ларсона Хольма, а другая переехала в Скароборгский лен и вышла за солдата 33, сын которого, Рейнгольд Рабе, был в последнюю войну лейтенантом при Эльфсборгском полку и убит при Гельсинборге 34. Относительно Иоанна Рабе, сына Рейнгольда, известно, что он [71] выслужился при полку, так что напоследок, по смерти своего отца, получать ту же должность полкового квартирмейстера и таким образом постоянно проживал в Гермюннаведе. Около 1674 года полк, под начальством полковника Свена Ранка, был послан в Германию, где и оставался некоторое время. Когда нее вскоре, вследствие враждебного вторжения датчан в Скову, пришлось вызвать его обратно, то полковой квартирмейстер Иоанн Рабе, женившийся в Лифляндии на одной женщине 35, взял жену с собою в Швецию, в Вестерготланд; здесь они поселились в Гермюннаведе, несмотря на то, что сам Рабе продолжал свою службу в течение всей войны, которая окончилась в 1679 году. Этот брак Бог благословил рождением дочери, и когда Рабе скончался и был погребен в Тоарпской церкви, то пережившая его супруга нашла, что ей незачем оставаться долее в Швеции, тем более, что она не имела здесь родственников, к помощи которых ей было бы молено прибегнуть. Поэтому она уехала отсюда на свою родину, в Ригу или Ревель, вместе со своей маленькой дочерью, после чего о ней прекращаются всякие известия.
3. Здесь, в нашей местности, имеется еще несколько молодых людей, которые называют себя Рабе и которые суть дети племянников покойного квартирмейстера Иоанна Рабе 36: из них один — сержант Осской роты, а остальные служат у офицеров 37.
4. Тоарпский приход в Ронгндальской общине уже с незапамятных времен всегда носил это свое имя “Тоарп” и никогда не назывался в поземельных книгах иначе.
В правдивости этой краткой записки я убежден тем более, что я сам не раз видел покойного Иоанна Рабе и его жену в доме моюсь покойных родителей, здесь, в пасторском имении Бельстаде: кроме того, я с детства знавать Иоанна Рабе по Ронгндальскому пасторскому имению, где он часто бывал у своего дяди, покойного главного пастора церкви св. Петра, и Павла, который был женат на моей покойной бабке. Тем не менее, я должен сознаться, что я не помню точно числа и года но каждому отдельному обстоятельству и не имею возможности спросить об этом кого-нибудь другого, так как все старшей, которым здесь могло быть что-либо известно по .данному вопросу, уже перемерли; я же, которому теперь исполнилось 63 года, не в силах упомнить того, что было в те времена 38. Если впредь потребуются какие либо ближайшие о сем сведения, то я обещаю (если Богу будет угодно продлить мою жизнь) расспросить о желаемом тщательным образом и, по возможности, сообщить узнанное.
Пасторское имение Бельстад.
29 июля 1725 р.
Стеф. Гельстадиус, пастор в Бельстаде. [72]
___________________________________
Записка неизвестного автора
(ibidem).
Перевод.
Иоанн Рабе, шведского происхождения, женился в Риге на вдове секретаря Елизавете Моритц, родившейся в том же городе и принадлежавшей к мещанскому сословию 39. Этот Рабе впоследствии прибыл в Швецию и был принять на службу в полк полковника Свена Ранка, в Хальмста 40, а затем сделан полковым квартирмейстером при Эльфсборгском полку. В 1682 году у означенного квартирмейстера и его супруги родилась дочь, названная Екатериной и появившаяся на свет в Эльфсборгском лене, Ронгндальской общине 41 Тоарпском приходе, в бостели полкового квартирмейстера, Гермюнделунде. По смерти отца, вдова его отправилась в Ригу, где Екатерина сперва была отдана в Weisen-huset (сиротский дом) 42. Отсюда она попала к пастору Глюку в Лифляндии 43 и у него вышла замуж за одного капрала кавалерии, но сразу же затем была взята в плен русскими генералом Вермиковым и привезена ко двору князя Меншикова, который представил ее царю. Последний…, спустя некоторое время, взял ее в царицы, а под конец соизволил короновать императрицей.
VII.
Приведенные нами документы Упсальской библиотеки, во всяком случае, должны быть приняты во внимание при решении вопроса о происхождении Екатерины I. Трудно предположить, чтобы постороннее лицо, помимо дочери Иоанна Рабе, могло собирать в 1725 году такие подробные сведения относительно его родословной, места жительства, прихода, где он погребен, и пр. 44. Затем не лишено значения и смелое заявление автора второй записки, что Катерина Рабе, взятая в плен в Лифдяндии, была, представлена царю князю Меншиковым, и что Петр 1 “взял ее в царицы, а под-конец соизволил короновать императрицей”. Такое заявление уже потому является достоверным, что легко могло быть опровергнуто в 1725 году при жизни Екатерины, тем более, что при иностранных дворах проживали русские резиденты и зорко следили за ходившими о ней слухами и толками в разных государствах.
С другой стороны, если мы признаем, что справки об Иоанне Рабе наводились в Швеции по желанию императрицы, что она [73] была действительно его дочерью, привезена в младенчестве матерью в Лифляндию, осталась бесприютной сиротой и пр., то подтверждением этого служат и следующие данные.
Известно, что наряду с полным разногласием и сбивчивостью сведений о происхождении Екатерины I все источники, все показания современников и позднейших исследователей сходятся в том, что она в младенчестве лишилась матери и осталась круглой сиротой на чужих руках. Такое единодушное подтверждение одного и того же факта может быть безусловно принято за доказательство существования самого факта. Разница показаний только в подробностях. По одним известиям Екатерина после смерти матери была отдана в рижский сиротский дом или в Ревельское подворье, а по другим сведениям: а) взята из сострадания кистером 45; б) вместе с братом нашла убежище в крестьянской семье; в) осталась на руках крестившего ее пастора, обремененного большой семьей, и от него взята Глюком; г) прямо принята Глюком в виду ее сиротства и пр. Исключение составляет единичное и потому сомнительное известие Бестужева 1715-го года, что Екатерина, “жила в Крейсбурге у тетки своей Марии Анны Веселевской и 12 лет возраста взята, в Лифлянды мариенбургским пастором”.
Еще более убедительным доказательством раннего сиротства Екатерины служит свидетельство ганноверского резидента Вебера, который описывает взятие Мариенбурга, со слов очевидца, учителя богословия Вурма, жившего в доме Глюка: “Во время осады Мариенбурга в 1702 году пастор Глюк, со славянской библией в руках, сопровождаемый своим семейством, Катериной, учителем Вурмом и прихожанами, явился в русский лагерь и просил помилования. Фельдмаршал Шереметев принял его ласково и, заметив Катерину, спросил о ней: Глюк ответил, что она найденыш, недавно вышла за драгуна” и пр. 46.
И так, если мы признаем вполне вероятный факт раннего сиротства Екатерины I и допустим возможность предположения, что она была увезена из Швеции в двухлетнем возрасте, то приходим к выводу, что у нее не могло сохраниться никаких личных воспоминаний о своей далекой родине. Если она имела какое-нибудь представление о Швеции, то разве по чьим либо рассказам и могла любить ее в память об отце и рано умершей матери. При этих условиях Екатерина, вступив на престол в 1725 году, после смерти Петра, могла воспользоваться достигнутой властью, чтобы поручить доверенному лицу вытребовать из Швеции желательные для нее сведения о родословной покойного отца, о своей [74] родине и пр. Подлинники сделанных запросов и присланных из Швеции ответов были, вероятно, уничтожены; но копии ответов сохранились в Упсальской библиотеке, в виде помещенных нами документов. Из них мы узнаем, что в 1725 году никого из родных Иоанна Рабе уже не было в живых, кроме детей его племянников, а при таком далеком родстве милость к ним императрицы могла ограничиться “значительным пожалованием”, о котором, по словам Кастена Рабе, сохранилось предание между членами его рода.
VIII.
Если Екатерина I до 1725 года ничем не проявила своих чувств и интереса к шведским родственникам, то понятно, что при жизни Петра Великого, при условии многолетней упорной войны со Швецией, немыслимы были какие либо поиски в этом направлении. Женитьба русского царя на шведской подданной была настолько неудобна в политическом отношении, что не допускала огласки. В данном случае весьма характерен правдивый или вымышленный рассказ одного “русского господина”, передаваемый шведским историком Нордбергом. По заключении Ништадтского мира, в 1721 году, царь сказал в шутку своей супруге: “Как договором постановлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобою будет?” Царица, поцеловав его руку, отвечала: “я ваша служанка; делайте, что угодно; не думаю, однако, чтобы вы меня отдали” и пр. Вообще Петр I, по-видимому, не раз напоминал шутя своей супруге, что она шведская подданная. В 1718 году, 11-го октября, в день Нотебургского штурма, ежегодно празднуемого им, он писал ей собственноручно: “Катеринушка, друг мой сердешнинькой, здравствуй! Поздравляем вам сим счастливым днем, в которым русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков отперто”. В другом письме из Гангеуда Петр пишет 27 июня 1719 года, по поводу годовщины Полтавской битвы: “Поздравляю, друг мой, вам сим днем — русским нашим воскресеньем. Дай Боже! что в девятом началось в девятый бы на десять благой конец восприяло! Чаю, я вам воспоминаньем сего дня опечалил, однако ж рассуждай” 47.
Екатерина, с своей стороны, не только не скрывала, что она. родилась шведской подданной, но даже, по-видимому, не стеснялась открыто заявлять об этом. Известно ее настойчивое желание [75] выдать дочь свою за Карла-Фридриха, герцога голштинского (сына старшей сестры бездетного Карла XII), имевшего законные права на шведскую корону и устраненного от престола шведскими государственными чинами в 1718 году 48. О неизменно милостивом отношении царицы к герцогу голштинскому, во время его пребывания при русском дворе, пишет Берхгольц в своем “Дневнике”, а также Бассевич, состоявший в свите герцога, который, между прочим, рассказывает о приеме, оказанном герцогу в начале 1721 года. При этом Екатерина, в присутствии герцогини курляндской, сказала угнетенному принцу, что “принимает живое участие в его интересах и для нее, супруги величайшего из смертных, небо прибавило бы еще славы, даруя ей в зятья того, которого она была бы подданной, если бы счастье не изменило Швеции, и если бы Швеция не нарушила присяги, данной ей дому великого Густава” 49. Далее в своих “Записках” Бассевич опять передает приблизительно те же слова Екатерины, на этот раз сказанные ему лично перед отъездом их величеств в Персию, в 1722 году, но поводу разрешения, данного герцогу и его свите остаться во время их отсутствия в Москве: “Ждите терпеливо нашего возвращения; ничто не изменит моей материнской нежности к вашему государю и моего желания видеть дочь мою на престоле государства, подданною которого я родилась”… 50.
Известно также, что Екатерина открыто покровительствовала шведам, снабжала шведских пленных деньгами и теплой одеждой, и при дворе ее было “много шведок” 51.
Доказательством шведского происхождения первой русской императрицы служит и тот факт, что датский посланник Вестфален, живший в России с 1718-1733 г., враждебно настроенный против Екатерины за ее нерасположение к Дании, даже называет ее шведкой в своем донесении от 2 (13) апреля 1725 года: “Царствование этой шведки (cette femme suedoise) всегда будет представлять опасность для Дании, потому что ее зять завзятый противник нашего короля” и пр. 52 [76]
И так, на основании приведенных нами фактов, а тем более подлинных документов, едва ли может быть сомнение в том, что Екатерина I родилась в Швеции и по отцу была шведского происхождения. Кроме того, вопреки общепринятому у нас мнению о родстве Скавронских с Екатериной, ее преждевременно умершая мать ни в каком случае не могла быть женой Самуила Сковороцкого и оставить после себя многочисленное потомство будущих графов Скавронских. Насколько мы могли проследить, сыновья и дочери Сковороцкого, по всем данным, были не родные, а только двоюродные братья и сестры русском императрицы.
IX.
В пользу высказанного нами положения мы можем, между прочим, привести и то, что Екатерина, милостивая ко всем несчастным, никому не отказывавшая в помощи и заступничестве перед грозным царем, — относится с поразительным равнодушием к семье своего предполагаемого отца Самуила Сковороцкого. Зная из донесения Бестужева 1715-го года о несчастной судьбе своих братьев и сестер Сковороцких, она не думает об облегчении их участи, оставляет многие годы выносить все ужасы тогдашнего крепостного состояния. Подобное безучастное отношение со стороны Екатерины могло быть вызвано таким же бессердечным отношением близких родных к ее овдовевшей матери по ее прибытии с детьми в Лифляндию и в том случае, если дети Самуила Сковороцкого не были ее родными братьями и сестрами. К тому же Екатерина, взятая в младенчестве пастором Глюком, могла лично не знать их до появления Христины Сковорощанки в Риге в 1721 году, при значительном расстояние и Мариенбурга от Крейсбурга и Риги.
Если, при жизни Петра, политические причины могли служить препятствием к собиранию сведений о семье Иоанна Рабе в Швеции, то таких причин не существовало относительно лифляндских родственников царицы. Значительная часть Балтийского побережья уже была покорена русскими войсками. Петр, получив известие о поражении Шлиппенбаха при Гуммельсгофе 18 июля 1702 года, повелел разорять Лифляндию всеми средствами, чтобы “неприятелю пристанища и сикурсу своим городам подать было невозможно” 53. В августе того же года Шереметев писал царю, что в Лифляндии “только осталось целого места Пернов и Колывань и меж ими несколько осталось около моря да Риги; а то все запустошено и разорено в конец”… Поэтому, если здесь и [77] были какие-либо препятствия к отысканию родственников царицы, то они скорее зависели от ее положения, которое долго оставалось шатким при русском дворе.
Во всяком случае, только в 1714 году русский генерал-комиссар при курляндском дворе, Петр Бестужев, получил через Матвея Алсуфьева указ ее величества из Петербурга и роспись, “дабы в Крышборхе сыскал фамилию Веселевских и Дуклясов” 54.
Поручение было нелегкое, судя по общему положению страны, опустошенной многолетней войной, голодом и моровым поветрием, о которой пишет очевидец Вебер, в январе того же 1714 года: “От Мемеля до Митавы я нашел почтовую дорогу почти совершенно запустелой; не видно было ни людей, ни домов, ни скота, так как все народные бедствия свирепствовали в этом герцогстве, и по сделанной переписи осталась всего 1/8 часть бывших в нем душ”… Далее Вебер добавляет: “Ригу я нашел еще в худшем состоянии в феврале 1714 года, тем более, что чума скосила здесь до 60.000 душ, а во время осады русскими брошенные восемь тысяч ядер разрушили дома; многие семьи обратились в бегство перед сдачей города”… 55.
Понятно, что при таком положении края Бестужев не мог скоро выполнить возложенного на него поручения, и собранные им сведения не могли быть особенно точными. Только 25-го июня следующего 1715 года он послал свое донесение императрице, что по ее величества указу “сыскать фамилию Веселевских и Дуклясов” он в Крышборх ездил и кого мог тех фамилий сыскал 56. При этом донесении сохранилась собственноручная записка Петра Бестужева, составленная им через месяц, а именно 25 июля того же года, которая служит наглядным свидетельством его старания передать буквально все слышанное и доставить возможно подробные сведения 57.
Сведения эти были следующие.
Донесение Петра Бестужева из Риги 25-го июня 1715 года.
1) Вильгельм Ган, курляндец, у него четыре сестры: “Первая, Катерина-Лиза, была замужем за Яном Веселевским… Вдова Катерина-Лиза после Веселевского вышла замуж за Лаврина Дукляса и родила с ним 6 сынов, померла в поветрие; один сын ее, Симон Дукляс, и ныне жив в Крейсбурхе. [78]
Вторая сестра Дорота была за Сковородоким, имела два сына и четыре дочери, была Лютерскова закону; один (сын) Карл, другой Фриц в польских Лифляндах, одна дочь Анна, другая Доротея, обе в польских Лифляндах замужем; третья, Катерина, жила в Крейсбурхе у тетки своей Марии-Анны Веселевской, которую в 12 лет возраста ее взял в Лифлянды шведский мариенбургский пастор, четвертая, Анна, в поветрие умерла.
Третья сестра Ганова, Софья, за Гендербергом, у ней два сына в Курляндии в Субоче, живы.
Четвертая сестра Ганова, Мария-Анна, была за другим Веселевским, у них остался сын Андрей Веселевский и ныне живет в Крейсбурху.
Записка, сохранившаяся при донесении Петра Бестужева к императрице от 25-го июля 1715 года.
Фамилия вдовы Веселевской и мещанина Дукляса.
Вдова Катерина-Лиза Веселевска жила в Крыжборху вдовою лет с пять, которая была за сыном Веселевским и имела с ним двух сынов, и оба умерли.
Отец ее, Мерхерт Ган, жил в польских Лифляндтах, в Калкуне мызе, у майора Фелькерзама. Оная Катерина-Лиза девицею жила барона Унтера у его жены в мызе Унгаре и оттоль вышла замуж в Крыжборх за Яна Веселевского… Катерина-Лиза после Веселевского из Крыжборга перешла через реку на Курляндскую сторону к Якубштат и взяла мужа Лаврина Дукляса и родила с ним 6 сынов и дочь; все померли, один Симон Дукляс, сын ее, и ныне жив в Якубштате.
У ней (Катерины-Лизы) было три сестры, да брат Вильгельм Ган, который: и ныне жив в Якубштате на курляндской стороне; сестры:
Одна Дорота была за католиком Сковоротским, имела с ним четыре дочери; одна жила у меньшой Веселевской в Крыжборху и взяли шведы, другие померли.
Вторая сестра (Катерины-Лизы) София, за Гендербергом. У ней два сына в Курляндии в Субоче у Сакина и ныне живы.
Третья сестра была за сыном мужа ее (Катерины-Лизы), за Яном же Веселевским. У них остался сын Андрей Веселевский и ныне живет в Якубштате. [79]
X.
При сравнении “донесениях” и “записки” Бестужева мы видим что эти документы далеко не отличаются точностью, и в них, встречаются противоречия, которые главным образом касаются фамилии Сковороцких (Скавронских). Между тем эти самые документы и представляют собою краеугольный камень и исходную точку приводимых доказательств и доводов в пользу того, что Екатерина была родная дочь Самуила Сковороцкаго.
Так мы читаем в приведенном нами донесении Бестужева: вторая сестра (Ганова) Дорота была за Сковородским, имела с ним два сына 58 и четыре дочери, а в его “записке” от 25 июля, того же года, приложенной к донесению, сказано, что у ней всего четыре дочери, а сыновья не упомянуты.
Затем, в той же записке, Бестужев заявляет, что из этих четырех дочерей Дороты Сковороцкой “одна (по-видимому, Екатерина) жила у тетки своей меньшой Веселевской и взяли шведы” (?), другие померли. Между тем в донесении Бестужева, писанном за месяц перед тем, 25 июня, — две замужние дочери Дороты Сковороцкой: Анна Ефимовская и Доротея (Христина) Гендрикова, показаны существующими в Лифляндах в 1716 году. Известно также, что обе они вместе со своими семьями были впоследствии привезены в Россию в царствование Екатерины I. Настолько же неверно сведение, что Екатерину взяли шведы.
Что касается показания Бестужева, что Екатерина в детстве жила у своей тетки, младшей Веселевской Марии-Анны, то этот факт является довольно сомнительным. Младшая Веселевская, по-видимому, не представляет никакого интереса для Екатерины, как и другая тетка Софья Гендерберг, и Вильгельм Ган, о котором Бестужев сообщает, что “он и ныне жив в Якубштате”. Екатерина не упоминает о них в указе Бестужеву 1714 года; и если они были включены в посланную при этом “роспись”, то наравне с другими родственниками старшей Веселевской. Впоследствии мы также не встречаем их в числе [80] родственников, отыскиваемых в Лифляндии, начиная с 1722 года, и привезенных в Россию.
Бестужев, согласно полученному указу, должен был отыскивать только фамилию Веселевских и Дуклясов, т. е. семью старшей Веселевской — Катерины-Лизы, и о ней он сообщает наиболее подробные данные в своей “Записке” 1715 года. Поэтому, если верно известие Бестужева, что Екатерина I жила в детстве у тетки своей Веселевской, то разве у старшей — Екатерины-Лизы (бывшей замужем за Веселевским отцом, а после его смерти за Дуклясом), так что, по-видимому, только с этой теткой — старшей Веселевской, у нее существовали в детстве или ранней юности какие-то отношения. Наглядным свидетельством этого служит тот факт, что из всех своих лифляндских родственников русская царица имела наиболее точные сведения о старшей Веселевской. Она знала фамилии ее двух мужей, а также, что этой тетки уже нет в живых в 1714 году, судя потому, что поручила Бестужеву навести справки о родных ее первого и второго мужа — Веселевских и Дуклясах.
Равным образом можно считать довольно сомнительным сведение, сообщаемое Бестужевым, что Екатерина “жила у тетки Веселевской до 12 лет возраста ее и взята в Лифлянды мариенбургским пастором”. В этом возрасте все сколько-нибудь важные события жизни, окружающая обстановка и родственные отношения более или менее отчетливо остаются в памяти и не исчезают бесследно. Поэтому трудно предположить, чтобы Екатерина могла настолько забыть своих лифляндских родных, чтобы впоследствии дважды отыскивать и собирать о них сведения. Но она, конечно, знала об их существовании и помнила фамилии, так как только при данном условии возможны были поиски, что подтверждается сделанными по этому поводу правительственными распоряжениями. В “Росписи”, приложенной к указу 1714 г., были, вероятно, также перечислены если не все, то некоторые из родственников царицы, иначе Бестужев не мог бы отыскать их в виду исключительно неблагоприятных условий, в которых он находился при исполнении возложенного на него поручения. С другой стороны, показание Бестужева, что Екатерина до 12-ти-летнего возраста жила у тетки Веселевской, и потому не заслуживает доверия, что, по свидетельству шведских и многих других источников, мариенбургская пленница, была в младенчестве взята из сострадания Глюком. В противном случае Глюк при осаде Мариенбурга не мог бы назвать Екатерину найденышем на вопрос Шереметева: кто она? [81]
XI.
Указ генерал-комиссару Бестужеву 1714 года “об отыскании фамилии” старшей Веселевской неизбежно приводит к вопросу: почему Екатерина оказывает такое предпочтение одной из своих теток Веселевской перед своими предполагаемыми родителями Сковороцкими, перед родными братьями и сестрами? Сковороцкие, как сказано выше, не упомянуты в указе, отодвинуты на. второй план и наравне с другими родственниками царицы включены в общую роспись, приложенную к указу. Наряду с этим мы видим еще другое доказательство полного равнодушия предполагаемой “дочери обывателя Самуила Сковороцкого” к родной семье. Бестужев заявляет в своем “донесении”, что “в польских Лифляндах живут два сына Самуила Сквороцкого: Карл и Фриц (Фридрих), и две замужние дочери — Анна и Доротея” 59; но Екатерина ни в чем не проявляет к ним своих родственных чувств. Сковороцкие, по-видимому, настолько же чужды ей, как и двоюродные братья Гендерберги (жившие тогда в Курляндии) и Симон Дукляс, о котором Бестужев пишет в 1715 году, что он и “ныне жив в Крейсбурху”. Она не делает относительно их никаких распоряжений и как бы забывает о них до 1721 года, то есть до появления в Риге Христины Гендриковой, напомнившей русской царице об ее лифляндской родне.
В пользу того, что Сковороцкие были, по-видимому, не родные, а только двоюродные братья и сестры Мариенбургской пленницы, служит и тот факт, что Екатерина не могла быть “третьей дочерью Самуила Сковороцкого, взятой мариенбургским пастором”, как сказано в донесении Бестужева. Известно на основании многих свидетельств, что Екатерина родилась в 1682-1683 гг. 60, а также известен в точности [82] возраст Христины “Сковорощанки”, по мужу Гендриковой, из сохранившихся архивных документов, где означено, что она появилась на свет в 1686 году 61. Таким образом мы видим, что Екатерина, названная в “донесении” Бестужева третьей дочерью Самуила Сковороцкого, оказывается на четыре или три года старше его второй дочери Христины. Но, и помимо этого неточного показания Петра Бестужева, если бы Екатерина действительно принадлежала к многочисленной семье Сковороцких, имела бы родных братьев и сестер, то почему она одна из всей семьи названа, сиротой и найденышем? Затем трудно предположить, чтобы без всякого основания был признан в исторической литературе факта раннего сиротства, Екатерины, которая, по свидетельству наиболее достоверных источников, очутилась в таком беспомощном положении, что взята была из сострадания чужими людьми, отдана в сиротский дом и проч.
Отсюда мы неизбежно приходим к предположению, наглядно подтверждаемому многими данными, что рано умершая мать Екатерины была также одна из сестер курляндца Вильгельма Гана, как и Дорота — жена Самуила Сковороцкого, обе Веселевские и Софья Тендрякова. Неизбежен и другой вывод, что именно эта сестра, Гана и есть Елизавета Мориц, вдова, рижского секретаря, которая, по свидетельству шведских источников, вышла вторично замуж за Рабе, уехала с ним в Швецию, где у ней родилась дочь Екатерина, будущая царица, и проч. Но мы не можем считать этот последний вопрос решенным, при отсутствии прямых доказательств, в виде подлинных документов 62. [83]
Не подлежит сомнению, что Бестужев в виду важного, возложенного на него поручения употребил все усилия, чтобы доставить ее величеству возможно точные данные, и не мог ничего выдумать или прибавить по собственному усмотрению. Он собирал сведения от местных жителей, самих Сковороцких и их родственников, которые не могли не знать дочерей Самуила Сковороцкого, а также, которая из них моложе или старше, так что неточность показаний не может быть объяснена простой случайностью или недоразумением. Что касается Сковороцких, то они люди “темные”, могли включить Екатерину в свою семью и объявить родной сестрой в надежде на великие блага от такого родства и в том расчете, что Екатерина, оставшись в младенчестве на чужих руках, могла не помнить родителей и фамилию своего отца. Мы не знаем, руководились ли Сковороцкие именно этими или другими мотивами, но факт обмана очевиден, и обмана настолько наивного, что он не мог ввести в заблуждение Екатерину, которая по всем данным помнила фамилию своих родителей и некоторых родственников. Во всяком случае, попытка Сковороцких прошла бесследно и не изменила к лучшему их положения, так как относительно этого, со стороны ее величества, не последовало никаких распоряжений.
С 1715 года проходит несколько лет, и наконец весною 1721 года Христина Гендрикова, наиболее энергичная и честолюбивая из Сковороцких, узнав о пребывании их величеств в Риге, является ко двору, под именем “Сковорощанки”, и добивается свидания с императрицей. Свидание это, вероятно, происходило наедине или в присутствии немногих, судя по тому, что о нем не сохранилось никаких сведений; неизвестно также, сделала ли Христина попытку убедить Екатерину Алексеевну, что она ее родная сестра. Мы знаем только, что Христина была “паки отпущена” с пожалованием двадцати червонных и должна была вернуться в деревню Кегему (около Риги) к мужу. Подарок 20 червонных родной сестре кажется нам довольно скудным со стороны императрицы, щедро наделявшей червонными своих слуг, князь-игуменью за выпитые ею кубки, гудочников, волторнистов на хрустальных колоколах, певчих и прочих. Мы знаем из приходо-расходной книги императрицы Екатерины, что она однажды пожаловала 20 червонных какому-то Горлецкому за поднесение французской грамматики, а, в другом случае — 30 червонных комедианту, который “показывал штуки, и в барабан бил и на голове стоял” 63. [84]
Христина, со своей стороны, едва ли осталась довольна пожалованием императрицы и оказанным ей приемом, но, тем не менее, при жизни Петра Великого не решалась более заявлять о своем существовании. В декабре следующего 1722 года, по письму генерал-прокурора Ягужинского к князю Репнину, “был отыскан и взят под крепкий караул брат Христины, крестьянин Карл Самуилов Сковороцкий, а потом отправлен в Москву к кабинет-секретарю Макарову” 64. С этого момента до смерти Петра о Карле Сковороцком нет никаких известий, кроме того, что он где-то содержался в полном довольстве, и к нему были привезены дети из Лифляндии, а жена “никак не согласилась приехать”…
Содержание в неволе более двух лет под присмотром, хотя бы в довольстве, “родного” брата Екатерины не может служить доказательством ее нежных чувств к нему, и Петр в данном случае не решился бы причинить огорчение любимой супруге, если бы это было против ее воли. Такое суровое обращение с Карлом Сковороцким, личностью безобидною и ничтожною, и соблюдение тайны относительно места его пребывания скорее могло иметь целью удержать его от “пустых разговоров”, и только с этой стороны он и мог казаться опасным. Возможно, что заявление Карла Скавронского о своем родстве с русской царицей и послужило основанием романического рассказа Вильбоа и Вольтера (пользовавшегося современной рукописью), что Карл Самуилович был найден в корчме, слугою, объявил себя братом высокой особы и пр.
Мы привели доводы и некоторые данные в пользу того, что Сковороцкие могли быть не родными, а только двоюродными братьями и сестрами Екатерины, но не считаем себя в праве утверждать это. Единственный намек на то, что Екатерина 1 могла быть дочерью старшей сестры Вильгельма Гана, мы находим в следующем письме цесаревны Елисаветы Петровны к вдове Федора Сковороцкого, урожденной Сабуровой, от 4 июля 1732 года: “Понеже известно нам, что муж ваш, гр. Федор Самуилович, определил тебе некоторые вотчины из пожалованных господам гр. Скавронским в фамилию их, а у него, мужа вашего, детей никого не имеется, того ради извольте в том себя предостеречь, и в те вотчины вступать вам не подлежит… и ежели вы в мою волю отдадитеся, то надеюся, крепчей будет… Для того я надеюсь, что вы не забыли, что я большая у вас” 65. В этом письме Елисавета Петровна, [85] племянница Скавронских, Ефимовских и Гендриковых, не имевшая никакой власти и значения в царствование Анны Иоанновны, могла называть себя большой, разве только в том смысле, что она себя считала старшей в роде по матери.
Во всяком случае, вопрос о матери Екатерины I, одной из сестер Вильгельма Гана, т. е. была ли она старшей из них, ее имели и фамилии по мужу также не может считаться решенным, пока не будут найдены подлинные, относящиеся сюда документы 66.
Екатерина I, насколько мы могли проследить, ни в одном из своих писем и указов не упомянула о своем родстве с Сковороцкими, и только в своем “завещании” называет их “ближними сродниками нашей собственной фамилии” наравне, с Ефимовскими и Гендриковыми, назначая для раздела между ними лично принадлежавшие ей “маетности и земли:. Императрица Елисавета Петровна в одном из своих указов сенату от 17-го августа 1743 года, по поводу тяжбы графа Ивана Скавронского с камергером Балк-Полевым, называет Ефимовских, Скавронских и Гендриковых сродными фамилиями ее “любезнейшей” матери, “блаженной и вечнодостойной памяти государыни Екатерины Алексеевны” 67. [86] Екатерина II в письме к графу М. Л. Воронцову (женатому на Анне Карловне Скавронской) от 2 декабря 1764 года заявляет о своем нежелании вступаться в дело развода его дочери с мужем А. С. Строгановым “по причине близкого свойства графов Скавронских с покойною бабкой императрицей Екатериной I” 68.
XII.
Вступление на престол Екатерины I послужило поводом для новых, еще более смелых заявлений со стороны Христины Гендриковой о своем родстве с императрицей, так как, по-видимому, она была уверена, что теперь устранены все препятствия к ее появлению при русском дворе и полному благополучию.
Едва прошло четыре месяца после смерти Петра Великого, и уже 3 июня 1725 года к рижскому генерал-губернатору, князю А. И. Репнину, явилась Христина Гендрикова и подала “суплику” на польском языке. В этом прошении Христина, жалуясь на обращение с нею помещика Вульфеншильда, писала между прочим: “…Всевышний по особенной милости своей возвел сестру мою в императорский сан; мы же две (т. е. Христина и старшая Анна) остались в крайней бедности… Сделайте милость, не откажите мне бедной в совете вашем, каким бы образом мне можно было поклониться ее величеству императрице, ибо я вовсе не знаю, как и в чем мне приехать. Я совершенно уверена, что она не отречется от меня” и т. д. 69.
Князь Репнин на другой же день известил кабинет-секретаря Макарова о суплике, поданной Христиной, и сделанном ей словесном заявлении, что “она сестра императрицы”, и приказал содержать ее под караулом в ее доме с мужем и детьми. На это извещение последовало повеление ее величества “содержать упомянутую женщину и семейство ее в скромном месте, дать им нарочитое пропитание и одежду и приставить к ним поверенную особу, которая могла бы их удерживать от пустых рассказов” 70.
Но принятая мера оказалась недостаточною, как видно из дальнейших писем князя Репнина, который доносил в Петербург, что Гендриковы, по слухам, “уже многим о себе [87] разгласили, и оба люди глупые и пьяные”, и что следует “взять их куда в другое место, дабы от них больше врак не было”. Не получая никакого ответа на это известие, князь Репнин “паки доносил” о том же 7-го июля и писал, что всего “удобнее б взять оную женщину с фамилией в Русь и содержать в таком месте, где про них не знают”. Совет этот был принят императрицей, и решено было отправить за Гендриковыми “нарочного курьера”, который должен был доставить их в Петербург.
Между тем князь Репнин, узнав через своего офицера, посланного в Польские Лифлянды, что там находится большая, старшая сестра Христины, Анна Ефимовичева с мужем и детьми, и “также о себе безопасно гласит”, приказал доставить их в Ригу. Но обещанный курьер не явился из Петербурга. Князь Репнин посылал письмо за письмом кабинет-секретарю, напоминал о людях, которые содержатся у него многое время под караулом и о том “вельми сомневаются”, а особливо “те, которые из Литвы привезены, нарекают, что, оставив дом свой, сюда приехали”. 14-го ноября рижский генерал-губернатор опять пишет в Петербург и повторяет свою просьбу, “дабы о помянутых арестантах получил какой указ; ибо опасен я на себя от них жалобы, которую уже и ныне производят”.
Тем не менее, прошло еще более месяца без всяких известий из Петербурга, и только в начале следующего 1726 года Макаров написал, что “для известной женщины с детьми наряжен курьер и скоро будет отправлен”. Сообщение это сильно встревожило кн. Репнина, судя по его письму от 23-го января, в котором он почтительно докладывал кабинет-секретарю, что “помянутая женщина с мужем и детьми не одна, но с нею есть брат ее родной с женою и детьми, да большая родная сестра ее с мужем и детьми”, и что всего содержатся у него три семьи, которым посылает роспись. При этом он просил известить его: “всех ли отправлять, как прибудет курьер, или токмо упомянутую женщину с детьми, и что с остальными делать” 71.
Кн. Репнин получил приказ снарядить в дорогу и “других той же фамилии”, и наконец 23 февраля 1726 года отправил из Риги с присланным курьером Микулиным всех содержащихся у него людей, кроме латышки, жены Фридриха Сковороцкого, с двумя дочерьми, ого падчерицами, “которые сами слезно просили, дабы их оставить, да и к посылке оные весьма не потребны” 72. [88]
Участь привезенных в Россию родственников императрицы, отосланных в Стрельну, была довольно печальная. Хотя Екатерина I щедро наделила их вотчинами, драгоценностями и деньгами, но не имела с ними никаких сношений, и даже братья Сковороцкие, пожалованные в графы Скавронские 5 января 1727 года, не были приближены к особе ее величества. Из них только Карл Самуилович жил в Петербурге в роскошном, устроенном для него доме соответственно его званию, и дети его были взяты ко двору и получали воспитание.
После смерти Екатерины I в положении ее “ближних сродников”, получивших по оставленному ею завещанию новые значительные вотчины, произошла существенная перемена в том отношении, что им дозволено было выбрать местожительство по своему усмотрению. И так как ничто не удерживало их в Петербурге, и им не предстояло играть никакой роли при новом дворе, то все они одни за другими переехали в Москву и в пожалованные им поместья, где вскоре довольно своеобразно заявили о своем существовании. Неожиданное превращение нищих крепостных крестьян в богатых господ, владеющих большими землями и сотнями душ, настолько вскружило им головы и возбудило алчность, что они требовали себе все новых и новых даяний и милостей. Так Карл Самуилович, как видно из журнала верховного тайного совета от 3 апреля 1728 года, в своем прошении о выдаче ему диплома на графский титул, слезно молит “о пожаловании его, графа, двором после кн. Меншикова, который на Мясницкой улице 73. Затем в письме от 14 июня того же года он просил гофмейстерину Елисаветы Петровны, чтобы она доложила цесаревне “о даче ему для житья в Москве двора” 74, и при своем громадном по тому времени богатстве 75 жалуется, что ему приходится жить в наемном доме “с нуждою”.
С прошениями и письмами обращались к Елисавете Петровне и другие родственники ее покойной матери, приносили жалобы и молили о заступничестве в своих нескончаемых распрях. Две родные сестры, Рендрикова и Ефимовская, получившие с детьми значительные поместья, при совместном владении некоторыми имениями затеяли из-за дележа и пользования ими “жестокое междоусобие”, бранились и ссорились из-за каждого клочка земли. [89]
Гр. Федор (Фридрих) Скавронский, до самой смерти своей, последовавшей в 1732 году, приносил цесаревне жалобу за жалобой на сестру Анну Ефимовскую и детей ее, от которых, по его словам, он терпел “несносные обиды, брань и разорение” в виде форменных наездов, сопровождаемых грабежом и насилием 76.
Елисавета Петровна, считавшая своим долгом оказывать покровительство родным покойной матери, вступалась за их обиды, разбирала ссоры, но не могла принести им существенной пользы в царствование Анны Иоанновны, “не милостивой ко всем сродным фамилиям императрицы Екатерины I” 77. Анна Иоанновна, гордившаяся своим происхождением от старшего брата императора. Петра, относилась с презрением к незнатным родственникам Мариенбургской пленницы и не упускала случая притеснять их 78. Красноречивым свидетельством этого служить дело гр. Мартына Карловича Скавронского (второго сына Карла Самуиловича), начатое 23 июня 1 735 года, по поводу принесенной им жалобы на своего слугу Урядова, которого он обвинил в волшебстве. Урядов, призванный в Тайную Канцелярию, сказав “слово и дело”, в свою очередь обвинил гр. Скавронского, что он во время ужина, сидя за столом, говорил ему, Урядову, и четырем людям своим: “нынешней де государыне не жить, а после де ее, как буду я императором, то разошлю тогда по всем городам указ, чтоб всякого чина у людей освидетельствовать и переписать, сколько у кого денег имеется”…
Несмотря на явную нелепость доноса и на то, что гр. Мартын Скавронский в “говорении означенного не винился и показал, что если что и говорил, то не с какого умыслу, но в пьянстве от простоты своей”, — он не избег строгого наказания. Не помогло ему и свидетельство четырех человек, указанных Урядовым, которые заявили на допросе, что никаких слов от Скавронского не слыхали. Дело кончилось тем, что 30 сентября 1735 года, на основании выписки Тайной Канцелярии и по определению ее величества, в присутствии его превосходительства, [90] Андрея Ивановича Ушакова, “помянутому Скавронскому нещадное наказание плетьми учинено, и он освобожден”…. 79.
При вступлении на престол Елисаветы Петровны, по-видимому, никого из старших родственников новой императрицы со стороны матери не было в живых, но для младшего поколения Скавронских, Гендриковых и Ефимовских наступили счастливые дни. Гр. Мартын Карлович Скавронский, помимо придворных должностей, был пожалован в 1744 году в генерал-лейтенанты, а через десять лет в генерал-аншефы и получил орден св. Андрея. Что касается Гендриковых и Ефимовских, то они, кроме других отличий, возведены в графское Российской империи достоинство. В списке статс-дам императрицы Елисаветы Петровны мы встречаем имена: Анны и Марии Гендриковых, Анны Карловны Воронцовой, Марии Николаевны Скавронской, жены Мартына Карловича, урожд. Строгановой 80.
Таким образом, Скавронские, Гендриковы и Ефимовскио заняли в гербовниках и родословных книгах видное место среди титулованных дворянских фамилий Российской империи. Но, кроме Анны Карловны Скавронской, по мужу Воронцовой, — одной из наиболее ярких и замечательных представительниц высшего русского общества XVIII века, — никто из них не выделился своими способностями или заслугами в области государственной, общественной и научной деятельности.
Н. А. Белозерская.
Комментарии
1. Соловьев, “История России”, т. XVII, изд. 1867 г., гл. II, стр. 227. Ibid. A. Филиппов, О наказании по законодательству Петра Великого; и пр., М., 1891, стр. 7.
2. Полн. Собрание Зак., VII, №№ 4870, 5004.
3. Сборник отд. русск. языка и словесности Имп. Ак. Н., т., XVIII, Спб., 1878, стр. 21. Переписка Макарова с князем А. И. Репниным.
4. Дети Карла Самуиловича Сковороцкого: три сына и три дочери, по его желанию, были привезены в Россию в 1723 году; но жена отказалась ехать к нему, несмотря на уверения, что “он содержится во всяком довольстве”, и осталась в Лифляндии. См. Ученые записки второго отд. Имп. Ак. Н., кн. II, вып. I., Спб., 1856, стр. 234. Выписка из дела: “Корреспонденция с князем Репниным о фамилии Скавронских”.
5. Сборник И. Р. И. Об. 1888, т. 64. Спб., 16 октября 1725 г. Письмо Кампредона к графу де-Морвилю.
6. В записках и мемуарах иностранцев, живших тогда в России, нет об этом никаких известий, кроме Вебера, который упоминает мимоходом, что 29 июня 1725 года, пять месяцев спустя после смерти Петра Великого, “в день апостолов Петра и Павла, государыня в сопровождении всего двора отправилась в главную церковь, где еще лежало на показ (zur Schau) тело императора” и пр. (Veraenderte Russland, III, s. 41. — Ibid. II, s. 204). По свидетельству Богданова (Описание Петербурга, изд. 1779 г., стр. 149-152, 166, 279-280) гроб Петра I оставался в церкви Петропавловской крепости до 21 мая 1731 года. — См. также “Деяния Петра Великого” Голикова, т. IX стр. 211 и след. Ibid. Соловьев “История России”, M. 1878, т. XVIII, стр. 275. — Подобное отступление от русских обычаев и традиций может быть объяснено только настойчивым желанием Екатерины почтить память своего супруга особым погребением, по примеру погребения наиболее уважаемых и знаменитых шведских королей, гроба и саркофаги которых выставлены в отдельных капеллах, за железными решетками, в старинной Риддаргольмской церкви Стокгольма. Остальные гробницы расположены в подземных склепах той же церкви.
7. Саксонский резидент Лефорт в своем донесении королю от 25 декабря 1725 года пишет о Софье Карловне: “Она не глупа, не дурна, смела, резка и довольно упряма”, а затем в одном из своих позднейших писем он сообщает, что воспитательницей фрейлины Софьи Карловны была княжна Лобанова, вышедшая в 1727 году за камергера Маврина. (Сб. Имп. Р. Ист. Общ., III, 423-460). Французский посланник Кампредон, сообщая в виде новости, в письме к гр. де-Морвилю от 4 декабря 1725 года, что племянница царицы начала появляться в обществе. добавляет что “она очень хорошо воспитана” (ibid., т. 64, стр. 128).
8. Сб. Имп. Р. И. Общ., Спб., 1868, т. III, стр. 539.
9. Родственники Екатерины в некоторых документах названы Сковороцкими, в других — Сковородскими, Сковоронскими и даже Икавронскими. По свидетельству Рельбига, фамилия Скавронские была принята, по предложению П. И. Сапеги. (См. “Русский Архив” 1865 г., изд. второе, I, 394, статья “Случайные люди” из соч. Гельбига: “Russische Guenstlinge”, Tuebingen, 1809).
10. Busching’s Magazin fuer die neue Hist. und Geographie, XI, s. 481.
11. Iohann Huebners “Genealogischen Tabellen”. I. Im Jahr 1725, Leipzig, Tab. 113, — В Supplement-Tafeln, 1-е Liefer., Kopenhagen, 1822, Tab. 39, вторая супруга Петра, Катерина, означена неизвестного происхождения.
12. Донесение Вебера в книге Шмидта-Физельдека: “Materialen zu der Russischen Geschichte” etc., I, Riga, 1777, s. 203-217. — См. также La Neuville: “Histoire de Pierre I surnomme le Grand”, Amsterdam et Leipzig, 1742, liv. III, p. 109. — Ibid. Histoire de Pierre I etc. Mauvillon, 1742, I, 307.
13. “Das veraenderte Russland”, 1740, III, s. 6.
14. Magazin fuer die neue Historie und Geographie, von A. P. Buesching, t. III, 1769, s. 190. — Ibid. Jahrgang. IV, s. 135.
15. Rigascher Almanach fur 1887, Riga: “Die Geschwister der Kaiserin Katharina I”.
16. В № 7 “Illustrirte Monatshefte” 1857 г. появилась статья Иверсена, который доказывал, что Екатерина I законная дочь рижского гражданина Петра Вадендика и родилась в 1679 году. Но заявление, это, по свидетельству сына Иверсена, не подтверждается пи церковными книгами, ни другими документами. — См. также ст. Щебальского: “Новое предположение о происхождении Екатерины I”. Чтения, 1860, кн. IІ, стр. 77.
17. Neuern Geschichte der Chineser, Japoner u s. y. T. XVII, ss. 118, 128. — Ibid. Memoires secrets du sieur Villebois, Paris, 1853, p. 72-75.
18. Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le Grand, par Voltaire, 1771, p. 271. — Шведский историк Нордберг, опровергая Вольтера, заявляет, что Екатерина никогда не носила имени Марта. Муж ее, Иоганн Крузо, считал ее дочерью купца и родом из Польши, “звал ее Катериной; фамилия ее была ему неизвестна” (habe sie Katharina geheissen, den Familiennamen habe er nicht gekannt). См. Sitzungsberichte der Gesellschaft fuer Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre, 1894, s. 117.
19. A. W. Hupel: “Ueber das lief- und esthlaendische Kirchenpatronat” (Der nord. Miscellaneen zweites Stueck), Riga. 1781, ss. 223-224.
20. “Leben Carl des Zwoelften”, 1746, II, s. 253.
21. “История царствования Петра Великого” H. Устрялова, т. IV., Спб., 1863 г., стр. 132-134.
22. “Abriss der Schwedischen Reichshistorie”, von Swen Lagerbring, 1770. s. 312 (перев. с шведского).
23. Geheime Geschichten und rathselhaefte Menschen”. P. Buelau. VI. Leipzig. 1855, — Katharina I Kaiserin von Russland. ss. 285-287. 296-297.
24. K. Waliszewski, “Pierre le Grand”, Paris, 1897. pp. 289- 290.
25. См. “История России” Соловьева, т. XVIII, прим. 210. — Письмо к Екатерине I русского генерал-комиссара при Курляндском дворе, Петра Бестужева, лет, Риги от 25-го июня 1715 года. — Ibid. Записка Бестужева от 25-го июля того же 1715 года в приложении к ст. акад. Я. Грота: “Происхождение Екатерины I”, в Сборн. отд. русск. яз. и слов, импер. акад. наук, Спб., 1878, стр. 30-31.
26. Сборн. отд. русск. яз. и слов. ак. наук, т. XVIII, Спб., 1878. стр. 7-32
27. “Das veraenderte Russland”, Th. III, s. 76-77.
28. Geheime Geschichten und rathselhafte Menschen, F, Bulau, Leipzig, 1855 VI B. “Katharina I, Kaiserin von Russland”, s. 287.
29. ……fran Germunnaved belagit i Westergiotland, Elfsborgs Iahn, Ahs harud, Rangndahls forsamling och Toarps Sochn.
30. Prestegard.
31. ………med kyrkiohirdens Sal: Hr. Poders dotter Karin cl: Catharina.
32. …till Borahs.
33. ….och fick en militair betiente.
34. Несколько сомнительное место это изложено в подлиннике так: “….. hvars Son Reinholt Rabe war nu i Sidsta krikit leatenant…”. Ср., однако, ниже, пункт 3 письма.
35. ………gift Sig med eu fru i Lifland. Из другого документа (см. ниже) видно, что это была вдова Елизавета Моритц, из Риги.
36. …Som aro Sal: regementz qvarteremastarens Joh. Rabes Systersoners barn, т. е. “дети сестриных сыновей”.
37. ………tjena hos oficerare.
38. …och jag som nu innehafwer 63 ahr, kan nagorlunda minnas hvad i the tider skiedt warit.
39. …af borgerlig Slacht.
40. …uti Halmsta.
41. …Rangndahls giald.
42. …forst uti Weisen-huset (barnhuset).
43. …tilt Probsten Gluck uti Lifland.
44. Такого рода сведения не могли иметь никакого значения для единственного брата Катерины. Свена-Рейнгольда Рабе, который (по свидетельству учителя Кастена Рабе) был вместе с сестрой привезен матерью в Лифляндию, впоследствии служил в шведской армии и был убит в Польше. (См. ст. Я. К. Грота “Происхождение Екатерины I”, стр. 13).
45. Motraye Travels, III, 1732, р. 196.
46. Das veraenderte Russland, 1740, IV, s. 180.
47. “Собственноручные письма Петра Великого к Екатерине Алексеевне”. См. Приложение к V тому Истории Петра Великого Н. Устрялова. Ibid., т. IV, стр. 139-140.
48. В трактате о супружестве цесаревны Анны Петр обещает “помогать герцогу всеми своими способами к достижению престола шведского”. Равным образом Екатерина I по 13-му пункту своего завещания настойчиво требует от своего преемника относительно герцога голштинского: “дело шведской короны по взятым обязательствам имеет накрепко исполнено, и Российское государство так, как и великий князь к тому обязаны быть”…
49. “Русский Архив” 1866, изд. второе. “Записки Бассевича”. стр. 196.
50. Ibid., стр. 215.
51. “Русский Архив” 1872, кн. 6, стр. 29. См. также “Дневник Верхгольца” М., изд. 1857, I, стр. 75-78.
52. Из документов датского архива, ст. А. Брикнера: “Россия и Дания при имп. Екатерине I”, в “Русской Мысли”, 1895. № 2, стр. 58.
53. “Ист. Петра Великого” Устрялова, IV, стр. 192.
54. “История России” Соловьева, т. XVIII, прим. 210, М., изд. 1868 г.
55. “Veraenderte Russland”, 1726, Th. I, s. 1-2.
56. Ibid. “История России”, прим. 210, т. XVIII.
57. См. Приложения I к ст. Я. К. Грота: “Происхождение имп. Екатерины I”, в Сборн. отдел. русск. языка и словесн. акад. наук, т. XVIII, Спб., 1878, стр. 30-31.
58. Прим. Из “корреспонденции с генерал-фельдмаршалом Репниным о фамилии графа Скавронского” видно, что у Дороты Сковороцкой был еще трети сын Дирих, взятый в плен в Лифляндии Шереметевым, и который не был отыскан в 1723 году, когда дано было высочайшее повеление о сыске лифляндца Дириха Самуилова, сына Сковороцкого, и для сего посланы нарочные “Но сего лифляндца не сыскано ни в Архангельской, ни в Вологодской, ни в Устюжской ни в Галицкой провинциях. Равным образом, не нашли его в Малороссии, куда также послано было предписание”. (См. Арсеньев: “Царствование Екатерины I”, в Ученых записках второго отд. ак. наук, вп. II, вып. I, Спб,, 1856, стр. 234).
59. Старшая замужняя дочь Дороты и Самуила Сковороцких Анна была за Якимовским; вторая дочь за Гендриковым. В донесении Бестужева она названа Доротеей, во всех других документах — Христиной; но так как она была католичка, то при крещении могла получить оба имени: Христина-Доротея.
60. Шуточное письмо Петра, где он (родившийся в 1672 г.) прибавляет себе два года, чтобы изобразить себя стариком в сравнении с супругой, едва ли может служить доказательством при определении возраста Екатерины, тем более, что он мог на том же основании уменьшить ее года. В письме от 14-го августа 1712 года, Петр пишет по поводу своего свидания с супругой: “Хотя хочетца с тобою видетца, а тебе, чаю, горазда больше, для того, что я в 27 лет был, а ты в 42 не была, однакож подождать будет немношко, чтоб веселея приехать”. (См. Письма русских государей и других особ царского семейства. “Переписка Петра I с Екатериной Алексеевной”, кн. I, Moсква, 1801 г.). Но даже по этому письму, если верно, что Екатерина родилась в 1685 г., то все-таки она оказывается, на год старше своей предполагаемой второй сестры, Христины Гендриковой.
61. См. “Архив кн. Воронцова”, кн. I, стр. 34. Ibidem. “Русский Архив” 1866 г., второе издание, стр. 435.
62. Для выяснения данного вопроса мы обратились в, Петербурге к доктору К. Ф. Морицу и к его брату Э. Ф. Морицу, живущему в Риге, в надежде, что в фамильных преданиях и генеалогических таблицах их рода сохранились какие-либо сведения об Елизабете Мориц, вдове рижского секретаря Морица. Но из полученных ответов оказалось, что эта ветвь фамилии Мориц не состоит в родстве с Ранами и Рабе, и что у них не сохранилось никаких традиций о родстве с Екатериной I членов их рода. Между тем, по свидетельству рижского археолога, доктора А. Бухгольца, “в половине XVII века в Риге находилось несколько лиц фамилии Морицов”, и в реестрах о крещенных Домской церкви и церкви св. Петра в Риге с 1657-1691 г. записано много детей: Людвига, Ролофа, Германа и Магнуса Морицов”… Но так как имя рижского секретаря, вдовой которого была Елизабета Мориц, неизвестно, то трудно решить, который из Морицов был первым мужем Елизаветы Рабе. Также неуспешны были справки, наведенные для нас в Риге В. Сорокиным о курляндской фамилии Ган, которая не принадлежит к лифляндскому дворянству и не имеет генеалогических таблиц.
63. См. “Русская Старина”, т. I, 1870, стр. 407-410, “Княгиня-игуменья 1722-1725 гг.”. — Ibid. “Русский Архив”, 1674 г., № III, “Книга приходорасходная комнатных денег императрицы Екатерины Первой за 1723 год”.
64. Ученые записки второго отдела Академии наук, кн. II., Спб., 1856 “Корреспонденция с князем Репниным о фамилии графа Скавронского”, стр. 234.
65. “Осьмнадцатый век”, второе изд., кн. первая, М., 1869, стр. 47.
66. Из подлинных документов важное значение имели бы данные о бракосочетании Елизаветы Мориц с квартирмейстером Рабе, год смерти Елизаветы Рабо, а затем сиротский приют, в который была помещена Екатерина, будущая императрица, после смерти матери. По сведениям, собранным в Риге от ученых членов Лифляндского археологического и исторического общества барона Брюйнингка и доктора А. Бухгольца и доставленным нам Э. Ф. Морицом и В. Сорокиным, оказывается следующее. Реестры о бракосочетаниях в рижских, городских церквах имеются только с 1702 года, кроме бывшего шведского прихода Jacobikirchе, где записи доходит до 1668 г. И так как Иоанн Рабе был шведского происхождения, “то следовало бы предполагать, что его бракосочетание состоялось при содействии пастора названной церкви, но о таковом от 1668 до 1704 никаких следов не найдено”. Равным образом ничего не отыскано в церковных книгах г. Крейсбурга и в Калкуне, а тем более в Мариенбурге, где все архивные бумаги исчезли бесследно. Тщательные изыскания в данном направлении были произведены бароном Брюйнингком, и, как упомянуто выше, привели его к заключение, что “многие документы были нарочно уничтожены, так как ничем иным нельзя объяснить некоторых пробелов в записях”… Реестры умерших с 1685-1700 гг., хотя и существуют в рижской Domkirche и Jacobikirche, но к Leichenbucher этих церквей имени Елизаветы Рабе не найдено.
Что касается приюта, в котором могла быть помещена Екатерина в раннем детстве, то существуют в Риге два старинных учреждения: “Waiseuhaus” (сиротский дом), основанный в 1651 году, и “Convent zum Heil. Geist”, который состоит из нескольких благотворительных убежищ, основанных в разные эпохи, начиная с XIII века, но служило ли одно из этих учреждений убежищем для Екатерины, — неизвестно.
67. Опыт историч. родословия графов Ефимовских”, Спб., 1841. Приложение №1.